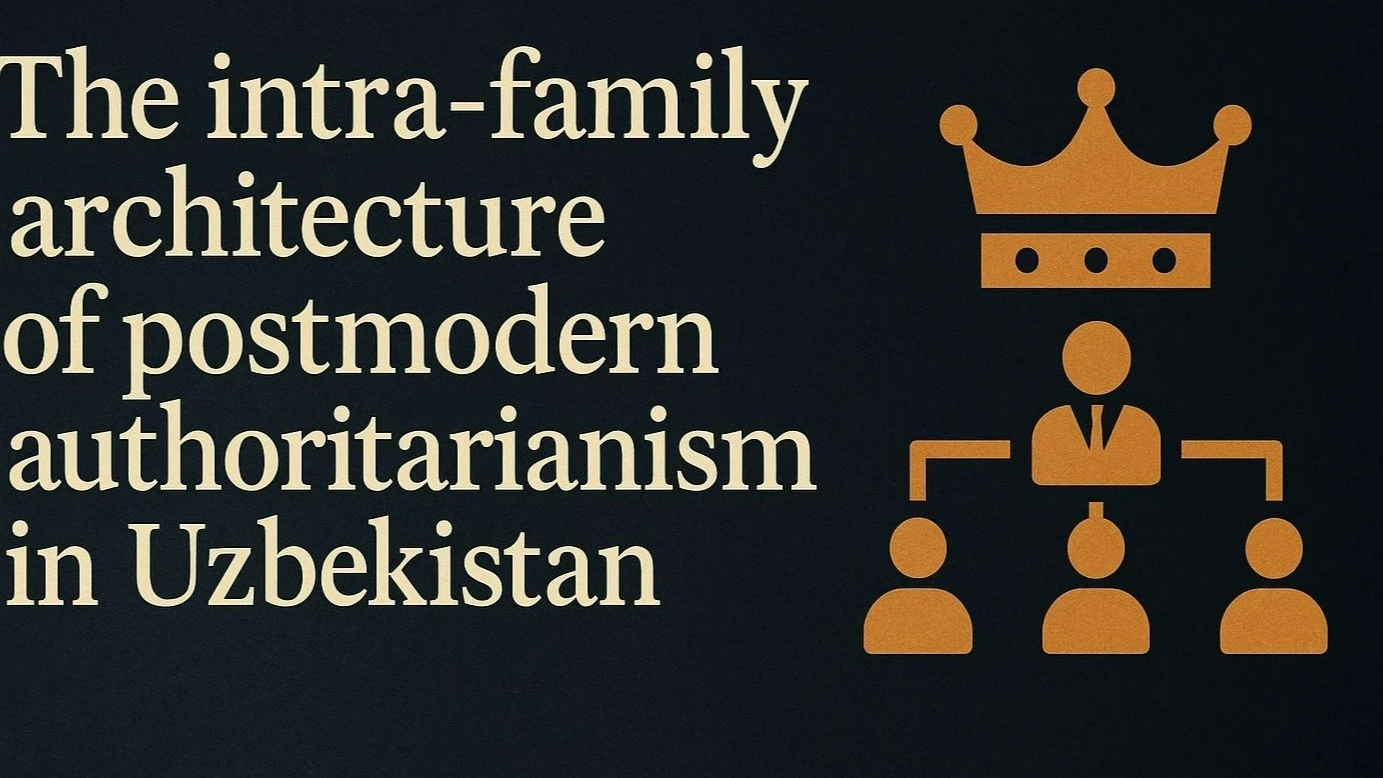Эльман Фаттах – директор Центра KHAR
Для тех, кто знаком с природой авторитарных режимов, эта новость не стала неожиданностью: президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назначил свою дочь Саиду Мирзияеву главой Администрации президента. Это событие – очередной пример семейно-политической консолидации, которую мы годами наблюдаем на постсоветском пространстве.
Невидимое наследие: поколение, воспитанное в тени Каримова
25-летний персоналистско-репрессивный режим Ислама Каримова углубил в узбекском обществе одну истину: источник власти — это личность лидера, а институты — лишь исполнители его воли (Geddes, 2003). Мирзияев отполировал это политическое наследие технической модернизацией, однако центр тяжести режима начал смещаться от личности к семье. Назначение дочери Саиды — санкционированная форма этого процесса.
Модернизация или замаскированный патриархат?
Назначение Саиды Мирзияевой главой Администрации президента основано не на принципах меритократии, а на семейных связях и авторитарной преемственности. В отличие от других технократов, Саида обладает самым сильным «проходным билетом» в политическую систему — родством. Её карьерный рост мог бы служить примером участия женщин в общественной жизни — если бы это продвижение произошло вне рамок семейной принадлежности. В этом контексте её назначение следует рассматривать как проявление непотизма и семейной кооптации.
Модель «семейной кооптации в авторитарной модернизации» Стивена Хайдеманна (Heydemann) предлагает хорошую теоретическую рамку для объяснения происходящего. Согласно этой модели, авторитарные лидеры продвигают членов своей семьи на технократические должности, обеспечивая лояльность внутри системы и демонстрируя внешнему миру видимость «реформ» и «модернизации». При этом модернизация остается лишь на уровне формы — суть по-прежнему основывается на патриархальной и семейной системе контроля.
Рост женщин без эмансипации
Главный парадокс заключается в том, что с виду роль женщин в системе расширяется, но на деле их позиции всё ещё зависят от семейной структуры. Саида продвинулась исключительно благодаря политической траектории своего отца, и её взлёт — не норма, а исключение, не создающее прецедент для социально-политического развития женщин в целом.
Для западной аудитории Саида становится лицом «чистого, культурного и модернизирующегося Узбекистана». Она говорит по-французски, сотрудничает с ЮНЕСКО — это повторение истории первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой несколькими годами ранее. Она демонстрирует открытость обществу. Но за этой глянцевой витриной углубляются такие структуры, как неравенство, политическая монополия и внутрисемейный контроль. Это — «самая утончённая, но и самая опасная форма современного патриархата».
Роль Саиды: технократ или политический “мост”?
Саида Мирзияева одновременно является дочерью президента, стратегом информационной и общественно-политической политики, лицом, представляющим режим на международной арене, и потенциальной носительницей внутрисемейной политической преемственности. Этот спектр ролей превращает её не просто в администратора или чиновника, а в ключевую фигуру проекта по будущему режиму. То есть назначение Саиды Мирзияевой — не феминистское достижение и не технократический успех. Это живой пример того, как авторитарные режимы используют женские фигуры для придания себе современного облика. Здесь поднимается не женщина — поднимается семья. Видим мы женщину, но за ней стоит династическое продолжение власти.
Когда семья становится государством...
Семейное правление — это далеко не редкость в политической практике постсоветского пространства. Напротив, это уже углублённая и легитимизированная модель режима. По мере трансформации опор авторитарной стабильности, новая форма доминирования строится на основе семейной структуры. Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан и теперь Узбекистан — яркие примеры этой модели. Здесь семья становится центральным политическим субъектом государства и неформальной мегаструктурой управления.
Эта структура хорошо объясняется через классическую концепцию неопатримониализма. Согласно теориям Кристофера Клафама (Christopher Clapham) и Жан-Франсуа Медара (Jean-François Médard), несмотря на существование формальных институтов и правил, реальное принятие решений происходит через личные и семейные патрон-клиентские связи (Clapham, 1985; Médard, 1991).
Авторитарная трансформация или поверхностная косметика?
С приходом к власти Шавката Мирзияева в оборот вошла риторика «нового Узбекистана». Внедрение электронного правительства, создание цифровых систем управления, либерализация валютного рынка, формирование более благоприятной среды для иностранных инвесторов — всё это подавалось международному сообществу и экономическим акторам как признак реформ. Всемирный банк и Европейский союз даже отреагировали на эти усилия положительно. Однако за этим реформаторским фасадом скрывается глубокое противоречие: основные структуры политической системы и баланс власти остаются неизменными (World Bank, 2020; European Union External Action Service, 2020).
Как подчёркивает Стивен Хайдеманн — один из основателей понятия «авторитарная модернизация», некоторые авторитарные режимы осуществляют избирательные реформы в экономической и технократической сферах, чтобы сохранять внутреннюю стабильность и при этом выглядеть реформаторскими в глазах международного сообщества (Heydemann, 2007). Узбекистан тоже следует этой модели — меняет форму реформ, но не их суть.
Назначение Саиды Мирзияевой главой Администрации президента ярко демонстрирует истинное политическое намерение, скрытое под слоем реформаторской косметики: спланировать и легитимизировать преемственность авторитарного правления в рамках семьи. Это назначение — открытый индикатор того, насколько ограничен и целенаправлен так называемый «период реформ».
Рост Саиды Мирзияевой доказывает, что реформы — это внутрисемейная ротация. Продвижение членов семьи во власть под технократической маской — это часть приватизации и централизации режима. Попытка обосновать этот шаг как «модерное женское лидерство» на международной арене и как «надежный семейный опыт» внутри страны свидетельствует о создании новых форм легитимации режима.
Таким образом, режим переходит к форме «эволюционировавшего авторитаризма»: формируется гибкая авторитарная модель, сочетающая технократическую модернизацию с семейной преемственностью, при этом сохраняющая образ реформаторства.
Вместо заключения: сменится не режим, а фамилия
Путин меняет лишь конституцию, Алиев — и конституцию, и членов семьи. Мирзияев, по-видимому, выбирает второй путь — поэтапную и институционализированную передачу власти в семье. Если раньше авторитаризм основывался на воле одного человека (Каримова), то сегодня эта система превращается в сеть семейного управления. Такая трансформация свидетельствует не только о смене управленческих методов, но и о смене самой природы политической легитимности. Ранее сила лидера базировалась на харизме и репрессиях — теперь же она легитимизируется через наследственность и семейные институты.
Это также означает формирование системной династии ещё в одной стране региона — Узбекистане. В Таджикистане — Рахмон, в Азербайджане — Алиев, в Туркменистане — Бердымухамедов, все они реализовали этот процесс по-разному. Теперь Узбекистан по сценарию Мирзияева строит собственную династическую модель: сначала опыт, затем статус, в конце — наследование. Однако сквозной месседж обществу на всех этих этапах остаётся неизменным: семья — это самая безопасная платформа стабильности.
Источники:
- Geddes, B. (2003). Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in Comparative Politics. University of Michigan Press.
- Clapham, C. (1985). Third World Politics: An Introduction. Madison: University of Wisconsin Press.
- Médard, J.-F. (1991). The state in Africa: the politics of the belly. In J. F. Médard (Ed.), States and Patrons in Africa: Neo-Patrimonialism and Political Order (pp. 23–42). London: Frank Cass.
- World Bank. (2020). Uzbekistan: Country Economic Update – Summer 2020. Washington, DC: The World Bank. Retrieved from https://documents.worldbank.org/
- European Union External Action Service. (2020). EU–Uzbekistan Relations: Progress Report on Enhanced Partnership and Cooperation. Brussels: EEAS. Retrieved from https://www.eeas.europa.eu/
6. Heydemann, S. (2007). Upgrading Authoritarianism in the Arab World. Brookings Institution.